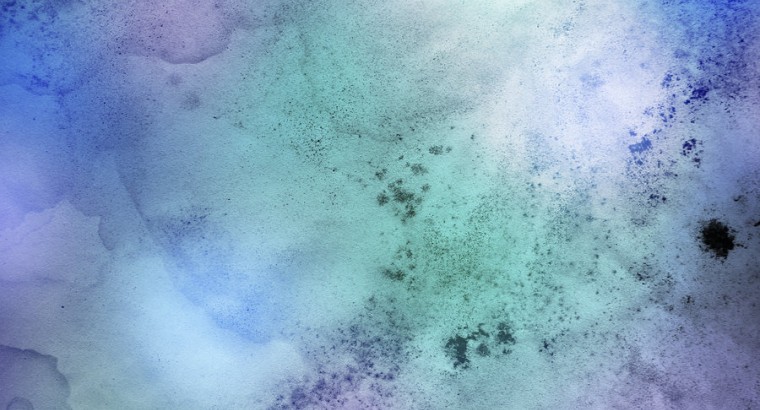
В детстве стОящими мне виделись только те стихи, в которых есть четкий сюжет и ясная рифма — так определялся жанр. Поэтому в нежном возрасте поэтическое творчество было кратким, четким. Ну и, конечно, говоря в современных терминах — рерайтиновым. Стихи сочинялись так: берется знакомый кусочек, из него выкидываются слова исходные, путем подбора вставляются свои, подходящие по ритму и не очень ломающие рифму.
Мыслилась поэзия в маленьких четверостишиях, очень удобно помещалась в клетчатую тонкую тетрадку. Кстати, черновики непременно уничтожались, виделось в них что-то нечистое, промежуточное, мешающее оценить блистающий результат. Необходимость в читателях не жгла сердца, ее просто не было.
Поэзия делалась исключительно для одного человека — себя самой, была тайным пороком, тщательно скрываемым уж не помню изначально почему. Тенденция эта — сокрытости — при всей трансформации самого процесса поэтизирования осталась неизменной. Сочинялось все исключительно для себя, как способ выражения жизненных впечатлений. Но исключительно производящих движение во внутреннем мире, пейзажной и гражданской лирики в тетрадке не было вовсе.
Листики-цветочки словно отсутствовали в сознании или считались неподходящей темой для творчества. Поэзия была делом сакральным и несущим сакральные функции выражения души. Кому браться изучать детскую психологию, то вот бы бы материал… Ничего не зная о Гоголе приобрела милую привычку уничтожать свои произведения. каждая новая тетрадка заводилась только после ритуального жертвоприношения предыдущей.
Кстати, хозяйке на заметку, процесс производства стиха выпаривает из жизненного впечатления его основной вес. Будь-то радостное событие, печаль, любовь, влечение, все что угодно. После того, как о нем напишешь, от чувства остается только след в памяти, а само движение души исчезает. Кажется это объясняет подавляющее количество стихов о несчастной любви, страхе, горечи и всякой прочей мерзости нашей жизни — мощный терапевтический эффект творчества ощущается интуитивно всеми, кто его попробовал.
Лет с 11 мнение, что есть настоящая поэзия, вывернулось — теперь настоящими стихами стали те, в которых ничего не было понятно. Чем не яснее стихотворение, тем в моих восторженных очах было ценнее. Да еще кто-то неосторожно поведал, что рифма — совсем не обязательна, ритм можно брать какой угодно и даже вообще обойтись без него.
После суровой хорейной аскезы такая свобода целый праздник. Что выписывалось в то время через неделю понять было невозможно. Держа в голове основную идею, причину или мимолетную причину фонтана слов сначала я могла понять, о чем это написано. Когда причина улетучивалась стих полностью терял смысл, для того чтобы его восстановить стишок произносился вслух. Кажется именно тогда стало очевидно — слова не только читаются но и звучат.
Пришла пора пробовать сочетать безумие с фонетикой, получалось плохо, даже неопытный и пристрастный критик в моем лице признал тупиковость такого пути развития. Дело застопорилась. Прежние темы уже не вдохновляли, новых не было. Оставалось поглощать чужое, но брать из него не так прямолинейно как раньше, а общий дух, движение.
Если долго читать одного автора и уловить ритм дыхания текста, то он может синхронизироваться с твоим. Несколько дней не затухает построение фразы «по-тостовский», «по-достоевски» — в силу их уж очень явного отличия.
Как раз лет в 12 я добралась до полки, где лежал Шекспир — кажется было 3 пьесы. Первые две не помню, но вот третья- третья была «Ромео и Джульетта». Это был удар по дых!
Короткие стихи были заброшены как мусор и настало время диалогов, сюжета и повествования с разных точек зрения. Целая революция в поэтическом мировоззрении. Была куплена не тоненькая тетрадка а приличная под такой объем тетрадь в 96 листов.
Все летние каникулы были проведены за написанием трагедии в стихах — о юных влюбленных, за основу была взята легенда о Козы-корпеш и Баян-сулу — продвигалась то литература Казахстана. писалось серьезно — с планом по главам, был список действующих лиц. Закончилось дело ровно на главе, означенной как «роковая встреча влюбленных в саду у валуна» по тривиальной причине — «пришла пора, она влюбилась». теперь было не до вымышленных влюбленных и их вымышленных страданий, настало время любовно-эротической лирики.
Надо сказать, что эротика была довольно наивная. До сих пор помню самую смелую фантазию, додумавшись до которой впала в шок от собственной испорченности: «Девушка, обнаженная по пояс, несет поднос под грудью как будто груди — фрукты.».
Первая любовь, как ей, в общем-то и положено, была безответной. Хотя, если бы я тогда читала Пушкина, не написала бы много чего, прекрасно обойдясь фразой «печаль моя светла». При бушевавшем потоке самых ярких и чистых эмоций стихотворный продукт их никах не отразил, увы. Банальщина, вроде «Я-Он, мой-твой, любовь-кровь» наполнила множество тетрадок. Программный стих этого времени:
«ты призрак яркого былого,
виденье смутное во мгле,
тебя люблю я лишь такого».
В 13 лет творчество мое сильно помрачнело. Причин было две — полный любовный крах и затяжная болезнь. В общей сложности я провела по больницам около года. Предметом затаенной гордости был факт, что
а) врачи не знали что вызвало болезнь,
б) не знали как ее лечить.
На меня приводили поглядеть студентов мед.института. Появились мотивы «жизнь рыбы в аквариуме» — абсолютно замкнутой на себе, но при этом абсолютно проницаемой для чужого взгляда.
Яркий пример:
«Я рыба в стекле, отпустите меня на волю,
дайте укрыться от ваших холодных взглядов.
принесите к глубокому черному морю,
я утону в нем, и больше ничто не надо.»
В 15 лет стало понятно, что лета у суровой прозе клонят. Сочинение стихов стало занятием для детишек, кому исключительно нечего делать. Зачем писать стихи, когда все тоже самое, только лучше, можно сказать в прозе?
Тотально преобладающий жанр — девичий дневник. Это чистый поток сознания, в котором с фонарем не сыщешь никаких примет времени, все события — исключительно из внутреннего мира. «Любовь и кровь» теперь были не рифмой, а частью текста.
Попытки писать не о себе были, но писать их было труднейшим занятием, поскольку до других дела не было никакого, ведь эти жалкие «они» тенью лежат у ног «великого Я». Обнаружилась именно в это время острая проблема — сюжет, события были нолем, переходящим в минус бесконечность.
Можно набросать сценку «Она сказала, Он-сказал, все заплакали, я гений», а вот что к этой сценке привело и куда пойдет дальше, понятно не было. К великой идее не прилагалась художественно занимательная форма изложения. Этот порок собачьего всепонимания при невозможности выражения так до сих пор никуда не делся.
Когда стала студенткой филфака КазГу, собственное генерирование текстов практически иссякло, началось профессиональное чтение. То есть очень много, очень быстро, очень аналитически. Вопросище «Как сделано» заслонял вздох «Ах, как хорошо сделано!»
Поднакопив базу, примерно начав понимать что к чему, сознание поднесло не слишком приятный сюрприз: трезвый безжалостный хирургический взгляд стал замечать как убого и серо собственное творение.
Потом мы с подругой сформулировали такой диссонанс в фразу «академик и писюшка» (примерный смысл «земля и небо»). В приступе зависти к мастерам я устроила в конце-концов сожжение Трои моих стихотворных тетрадок, получился славный костерок в раковине!
Чем дальше, тем четче отчеканивалась идея «стихи пишут либо полные невежды, не знающие что все уже написано до них и наверняка лучше, либо смельчаками, не боящимися потягаться с корпусом существующего. Гении как исключение из любых правил в формуле не учитываются как фактор».
К невеждам относить себя было уже поздно, к смельчакам — лживо, к гениям — глупо.
Вот так и стало на планете на одного поэта меньше, думаю, ей все-таки повезло.

Ваш отзыв